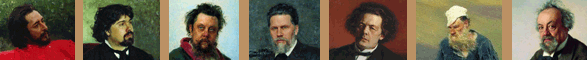"Крестный ход в Курской губернии". История создания картины, окончание
В своей картине Репин противопоставил простой народ и власть предержащую. С одной стороны - народ, забитый, угнетенный, с другой - угнетатели этого народа. Вот они, представители власти: лихой урядник лупит толпу нагайкой; другой урядник только грозит плеткой, но того и гляди пустит ее в ход; множество всяких сотских и десятских и прочих царских слуг: с палками в руках они оттесняют крестьян от иконы, дабы они не мешали привилегированным.
А вот местная аристократия - толстая, чванная помещица, вся в бантах и кружевах; грубый, самодовольный кулак, «ее ассистент», как метко определил Стасов, «местное самое влиятельное лицо - откупщик или подрядчик, теперь золотой мешок»; далее - отставной офицер, в форменном сюртуке, но без эполет, вероятно, тоже помещик. Местные богатеи с важным, серьезным видом несут огромный пустой киот иконы. Щедро политы маслом волосы, расчесанные на прямой пробор, до блеска начищенные сапоги, широкие яркие кушаки.
Вот этим барынькам и кулакам, являющимся оплотом; самодержавия, доверена «высокая честь» нести икону...
И, наконец, попы в золотых ризах и камилавках, довольно весело болтающие между собой, забыв, очевидно, о своей роли святых отцов... Рыжий дьякон, псаломщик...
А над всей этой разношерстной толпой горячие лучи полуденного солнца золотят пыль, клубами вздыбившуюся от топота сотен сапог.
С неприкрытой иронией рисует художник привилегированную часть общества, с серьезностью делающих столь «важное» дело, и с большой теплотой, с глубокой любовью показывает толпу бедняков. Великолепный горбун, изображенный на переднем плане,
весь в порыве, в стремительном движении, с одухотворенным лицом, олицетворяет крестьянскую силу, которая сегодня находится еще под спудом, еще не разбужена, а завтра - распрямит спины бедняцкого люда, размахнется он и смоет с лица чудесной русской земли всех эксплуататоров, всех богачей.
В «Крестном ходе» как нигде проявилось мастерство Репина-живописца. В картине какое-то особое, несвойственное ни одному русскому художнику сочетание красок. Голубое небо, освещенное летним полуденным солнцем, словно застыло в истоме и переливается яркими, неповторимыми красками; сверканье и блеск хоругвей, икон; яркие одежды толпы; насыщенность воздухом, несмотря на большое количество персонажей, - все это создает настоящую симфонию.
Весь спектр, все многообразие красок, умелое использование тонов и полутонов, мастерство в передаче «вещественности» и лиц, и одежды, и предметов, так, что кажется можно руками схватить, - это все то, что в немногих словах охарактеризовал
Стасов: «Писана картина колоритно, сочно, широко, по не декоративно - так, что каждый мазок свободной кисти идет к делу, определяя вполне всякую мелочь, без тщательной ее выписки».
Репин говорил о Веласкесе: «Веласкес - такая глубина знания, самобытности, блестящего таланта, скромной штудии, и все это скрывается у него глубокой страстью к искусству, доходящей до экстаза в каждом его художественном произведении; вот откуда происходит его неоконченность (для непосвященного глаза), напротив, напряжение глубокого творчества не позволяло ему холодно заканчивать детали; он погубил бы этот дар божий, который озарял его только в некоторые моменты; он дорожил им...
И какое счастье, что он не записал их сверху, не закончил, по расчету холодному мастера!!! Детали были бы, конечно, лучше, но зато общая гармония образа, что способны воспринимать только исключительные натуры, погибла бы, и мы этого не увидели бы никогда...» Эти слова по праву можно отнести и к Репину.
Огромное впечатление на самые разнообразные слои русского общества произвела эта картина. Пожалуй, общее мнение, или, вернее, подавляющей части русского народа, выразил известный в те времена художественный критик, редактор журнала «Вестник изящных искусств» А.И.Сомов, увидевший в картине «полный беспощадный реализм».
Сомов писал: «Все это залито солнцем и движется в воздухе. Что ни лицо, то живой тип, целиком выхваченный из народа; что ни фигура, то - характерная. Но не ищите в этих лицах и фигурах глубокого религиозного настроения; его нет, вместо него - одна суетня, одно пристрастие к обрядности. Написана картина как нельзя лучше: колоритно, сочно, свежо, широко».
И.Н.Крамской говорил, что Репин «обладает способностью сделать русского мужика именно таким, каков он есть. Я знаю многих художников, изображающих мужичков и хорошо даже, но ни один из них не мог никогда сделать приблизительно так, как Репин... Только у Репина он такой же могучий и сильный, как он есть на самом деле».
Репин действительно знал русского мужика, знал его мысли и чаяния. Он изучал характер русского народа и в своих странствиях по Волге, когда писал «Бурлаков», и на Украине и Кубани, когда писал «Запорожцев», и в Курской губернии, и, в особенности, в Подмосковье, в период работы над «Крестным ходом».
Характерен рассказ Репина о крестьянах - его спутниках по вагону, когда он в 1873 году уезжал за границу. В вагон, где находился Репин, возле Луги ввалилась толпа мужиков, «битком набитые, они должны были стоять всю дорогу, - писал Репин. - При появлении их в публике сидящей, разумеется, выразилось неудовольствие толканием от себя прочь добродушных сермяг. «Эка участь наша,- обратился ко мне один из них.
Мы платим деньги, как все, а нас толкают, куда ни сунемся. Как нас там?., примут ли?» Он указал вверх. «Конечно - прямо в рай»,- говорю я ему. Добродушный мужик печально осклабился, по загорелому лицу заиграли беловатые морщинки, и открылись белые блестящие зубы. «Нет, родимый, где нам в рай!
Мы вот всю дорогу матюхались; за наши деньги нас прогоняют; хлеб сеем да робим, а сами голодом сидим, - прибавил он добродушно, смеясь во весь рот. - Вот какая мужицкая участь».
Эта сценка весьма знаменательна. Ведь именно таких крестьян и показал Репин в «Крестном ходе», таких, какие сеют и робят, а сами голодные сидят. Это те мужики, от которых шашками и палками охраняют «чистеньких», - тупых, самоуверенных, чванных, лживых, лицемерных, «допущенных к богу» помещиков, чиновников, богатеев, кулаков.
Такова суровая, тяжелая жизнь русского народа, с потрясающей силой раскрытая Репиным в его картине.
В «Крестном ходе» Репин претворил в жизнь свое понимание русской живописи, которое высказал он в письме к Крамскому еще за три года до начала работы над этой картиной. Он говорил тогда: «...наша задача - содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатление природы, ее жизнь и самый дух истории - вот наши темы... Краски у нас - орудие, они должны выражать наши мысли.
Колорит наш- не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке».
В этих словах - отношение великого русского художника к русскому искусству вообще и, в частности, к живописи. Не «искусство для искусства», не игра красок, а в первую очередь содержание, идея, отражающие мировоззрение художника, его отношение к действительности, к жизни. Форма не должна превалировать над содержанием, она лишь средство для яркого отражения идеи.
Крестный ход, в начало статьи...
|