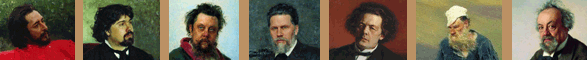|
|
Статьи о Репине:
Бенуа, 1
Бенуа, 2
Бенуа, 3
Волынский, 1
Волынский, 2
Волынский, 3
Грабарь, 1
Грабарь, 2
Грабарь, 3
Грабарь, 4
Грабарь, 5
Грабарь, 6
Грабарь, 7
Грабарь, 8
Германия 2003
|
|
Игорь Грабарь. Отрывки из монографии о Репине, часть последняя
Портреты Пирогова и Рубинштейна появились на X Передвижной выставке 1882 года вместе с восемью другими. Среди них портрет спящей жены, В. А. Репиной, названный им "Отдыхом". "Отдых" не столько портрет, сколько картина. Задача, поставленная здесь Репиным, близка к той, которую он ставил себе и в первом портрете Стрепетовой, — передать по возможности жизненно и даже иллюзорно увлекшую его натуру — заснувшую в кресле женщину. Потому ли, что эта чисто живописная задача не была усложнена добавочной задачей передачи трагедии или просто лучше и спокойнее работалось в обстановке своей семьи, между делом, но эта вещь бесконечно выше по своему художественному очарованию, нежели "Стрепетова".
Чувствуется, что, работая над нею, Репин был в особенном ударе, и ему шутя, в час с небольшим, удавались детали, над которыми в менее счастливые минуты приходилось биться целыми днями.
Из портретов, не выставленных Репиным и исполненных в 1882 году, один из самых пленительных — односеансный этюд с Т. А. Мамонтовой. Она изображена в профиль, по пояс, сидящей в кресле, через спинку которого перекинута шаль; в волосах цветы. Женских портретов у Репина вообще мало, и они ему удавались менее мужских, но этот принадлежит к числу лучших как по концепции, по тому, как он вписан в квадратную почти раму, так и по силе живописи и редкому для Репина изяществу.
Из сопоставления всех этих портретов видно, что в то время в Репине уже боролись те два в корне различных живописца, которые впоследствии вступали в еще более решительный бой: то брал верх Репин-объективист, Репин, стремившийся всеми помыслами к иллюзорности, то побеждал Репин-субъективист, Репин, отдавшийся всецело своей артистической страсти, Репин, смаковавший эластичность и легкость мазка, искавший колористических отношений и забывавший о проблеме иллюзии. Портрет Мамонтовой, еще более чем этюд со Стрепетовой, создан в такую минуту подлинного живописного вдохновения.
Но самым сильным портретом этого года надо признать портрет барона А. И. Дельвига, автора известных мемуаров, племянника поэта. По жизненности, выразительности, лепке и мастерству он — одна из вершин репинского творчества.
Дельвиг позировал охотно и хорошо, и Репин с увлечением писал его наслаждаясь беседой с этим умным и независимым человеком, откровенно рассказывавшим художнику о взяточничестве великих князей и самого "царя-освободителя". Наконец, к 1882 году относится и портрет Крамского, появившийся на Передвижной 1884 года и написанный в обмен на репинский портрет, исполненный Крамским в Париже в 1876 году. Ни тот, ни другой не делают чести обоим авторам.
В том, что наряду с жемчужинами, вроде "Мусоргского", "Пирогова", "Рубинштейна", "Мамонтовой", "Дельвига", Репин мог писать вещи, ни в какой мере не отвечающие его таланту и чисто портретному мастерству, нет ничего необычного: у величайших мастеров прошлого рядом с гениальными созданиями бывали и немощные, нисколько, однако, не ронявшие репутации великого художника. Особенно это имело место у мастеров плодовитых, к числу которых, конечно, относится и Репин...
Внимательно рассматривая репинские портреты 80-х годов, мы без труда сможем разбить их на две в корне различные и временами противоположные группы: в одних явно преобладает тяготение к форме, в других — влечение к живописности; в первых художник чеканит форму, мыслит скульптурно, рисует строже, видит объективнее; во вторых эта форма то слизана светом, то смягчена цветом, то перебита дерзким мазком: автор чувствует живописно, не слишком строг к рисунку, и его горячий темперамент навязывает натуре художественную волю автора.
Откуда такая разность и даже прямая противоречивость внутренних творческих стимулов у художника в один и тот же год и даже в один и тот же месяц? Художник — не машина, и художественное творчество не механично. Его Я, оставаясь самим собой, видоизменяется под давлением натуры, модели, подсказывающих каждую данную концепцию: этого человека мне хочется так написать, а ту женщину совсем иначе. Написать a la Manet можно только в шутку или "для пробы", или из озорства; такому здоровому, ядреному художнику, как Репин, не пристало писать иначе, как а lа natura. И он неукоснительно идет своей дорогой, здоровой, твердой, и оттого так бесконечно разнообразны его портреты.
Ни одной повторяющейся позы, ни единого заученного жеста, вовсе нет одинаковых рук, поворотов головы и особенно выражений и взглядов. Написать такую пропасть лиц и не повториться — это чего-нибудь стоит.
Но вот еще наблюдение, подсказываемое пристальным изучением репинских портретов: лучшие из них, самые вдохновенные, наиболее волнующие и не вызывающие никаких возражений, падают на эпоху расцвета творчества вообще — на годы "Не ждали" и "Ивана Грозного". Так как живопись не есть скульптура, и ее язык по преимуществу язык цвета и света, то высшие достижения живописи суть те, в которых проблема живописания в тесном смысле слова находится в гармонии с проблемой объема. Поэтому на период высшего расцвета у Репина приходится наибольшее число портретов главным образом живописного порядка — сильных по цвету и темпераменту, в них вложенному. В эти годы очень редки портреты только объемного, скульптурного типа.
Но чем дальше, тем они будут встречаться чаще и, напротив, тем реже мы увидим у художника увлечение живописными заданиями.
В следующем году он действительно ее пишет, на этот раз скорее в типе портретного этюда, нежели портрета в собственном смысле слова. Но это — сверкающий по живописи этюд, одна из жемчужин Третьяковской галереи, не сразу оцененная Третьяковым, писавшим Репину по поводу X11 Передвижной выставки: "Стрепетова очень хороша; это тип, но не портрет; пейзажи можно было не писать". В конце концов он этот этюд все же купил, постигнув очарование его мастерства.
Второй портрет дает актрису не в роли, а в ее домашнем облике, в простом платье и с неубранными волосами, но то трагическое выражение, которое было ей присуще и которое не покидало ее и в жизни, эта впечатляющая, всем памятная ее "надрывность" переданы здесь исчерпывающе, притом легко, просто и с покоряющим артистизмом..."
в начало монографии Грабаря...
|